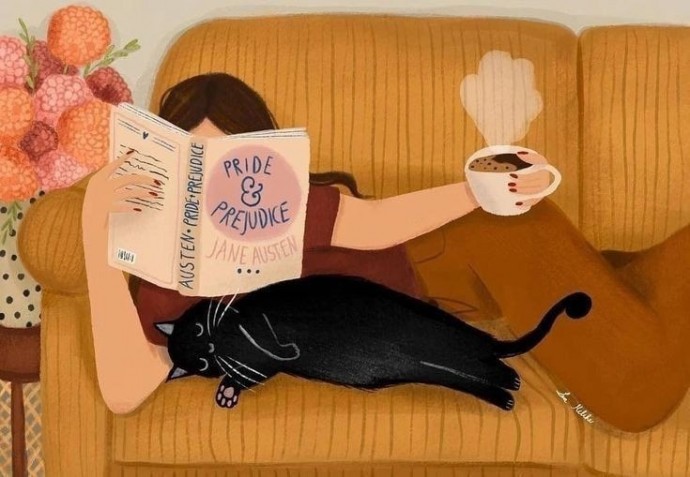Клиническая психодиагностика
7 августа 2025
ПУШИСТЫЕ КОЛЛЕГИ
Представьте: вы погружены в отчет, голова гудит от цифр, а рядом раздается мягкое постукивание лап по полу. Это ваш коллега - не человек, а, скажем, лабрадор или пушистый кот - подходит, чтобы положить голову вам на колени. И странное дело: напряжение уходит, в груди становится теплее, а мысли внезапно проясняются.
Наука подтверждает то, что многие чувствуют интуитивно: животные в рабочем пространстве - это не просто мило, а полезно для психики. Они снижают уровень кортизола, гормона стресса, и повышают выработку окситоцина, который дарит ощущение спокойствия. Но их влияние глубже, чем кажется. В коллективе, где есть питомцы, люди чаще улыбаются, легче находят общий язык и даже реже конфликтуют. Животное становится тем самым нейтральным "посредником", который способен разрядить обстановку - ведь сложно злиться на мир, когда рядом кто-то мурлычет или виляет хвостом.
Особенно это важно для тех, кто склонен к тревожности или эмоциональному выгоранию. Возможность на минуту отвлечься, погладить собаку или посмотреть, как кот сворачивается клубком на подоконнике, работает как своего рода медитация. А еще питомцы напоминают: за стенами офиса есть другая жизнь, где важны не дедлайны, а моменты искренности и тепла.
Конечно, не все компании готовы к такому формату. В некоторых странах, например в США или Великобритании, pet-friendly офисы уже стали нормой, особенно в IT и креативных индустриях. В других вопрос решается индивидуально, с учетом аллергий, фобий или специфики работы.
Исследования единодушны: сотрудники, у которых есть возможность взаимодействовать с животными, чувствуют себя счастливее и продуктивнее. Возможно, секрет гармоничного офиса не только в удобных креслах и кофемашинах, но и в том, чтобы иногда слышать рядом довольное сопение четвероногого друга. В конце концов, работа занимает немалую часть нашей жизни - почему бы не сделать ее чуть более теплой и живой?


Признание зависимости создаёт возможность для освобождения. Первый шаг выхода из психического рабства — осознание власти поработившей человека программы. Но если согласия с тем, что порабощен нет — проблема закольцована. Это замкнутый круг. Тебя не поработили? Значит этот выбор — твой. Выбор — не рабство. Выходить неоткуда.
Помощь в это место прийти не может, потому что до момента признания зависимости — такая помощь не помощь, а насилие.
Для взрослого человека эмоциональное слияние с родительской фигурой — тоже зависимость. Только «рабовладельцем», поработившим волю, является не родитель, а программа.
И если человек исходит из того, что причина сложностей его жизни в поведении его родителей — он не приближается к выходу из рабства, а ещё более вязнет в зависимости.
Нет смысла биться об маму или её заместителей. Есть смысл разбираться с механизмом.


Эмоциональная зависимость - это вовсе не "слишком сильная любовь". Это болезненная привязанность, при которой человек теряет себя в другом, испытывает страх потери, тревогу и чувство опустошенности без объекта зависимости.
Если составлять портрет типичного эмоционально зависимого, то в зоне риска чаще всего окажутся женщины (во многом из-за культурной и социальной обусловленности), но мужчины ей тоже подвержены. Как правило, это люди с тревожным или избегающим типом привязанности.
Мозг зависимого человека активирует те же зоны, что и при химической зависимости. А это значит, что объект нездоровой любви воспринимается как наркотик, и без него начинается настоящая ломка. Этим во многом объясняется и упадок сил, и неадекватное поведение, и одержимость, которая охватывает зависимого при разрыве связи с "любимым".
Зависимым свойственна потеря идентичности ("Кто я без него?") и чувство вины за свои потребности, когда, вроде бы, мысленно допускаешь, что заслуживаешь лучшего, а на деле реализуешь очередной унизительный и болезненный сценарий.
Зависимость действительно разрушает жизнь и наносит непоправимый ущерб психике. Из-за дефицита саморегуляции хронический стресс может перейти в невроз и панические атаки. Начинает страдать и работа, и самореализация, и отношения с другими людьми, потому что человек не способен думать ни о чем, кроме своей нездоровой любви.
Всё потому, что зависимые плохо распознают свои чувства и используют отношения как способ избежать внутренней пустоты. Когда вы говорите: "Я его люблю, а он... (не любит/ плохо относится/недоступен ни эмоционально, ни физически)", то любите вы не человека, а свои мысли и фантазии о нём. О том, как это было или могло бы быть (но прошло и уже никогда не будет!).
Именно с этими напрасными надеждами мы и работаем в терапии: помогаем осознать свои установки и роль в отношениях; сопоставить ожидания и реальную "отдачу"; принять свои чувства и увидеть новые жизненные возможности и направления.
Согласно исследованиям, пик зависимости от отношений приходится на возрастной промежуток от 25 до 45 лет. Как видите, если ничего с этим не делать, то страдать можно долго и угробить на это лучшую часть своей жизни.
Эмоциональная зависимость - не про любовь, а про страх одиночества и непринятие себя. Путь к исцелению начинается с честной попытки ответить на вопрос: "Что я прячу за этой зависимостью?"
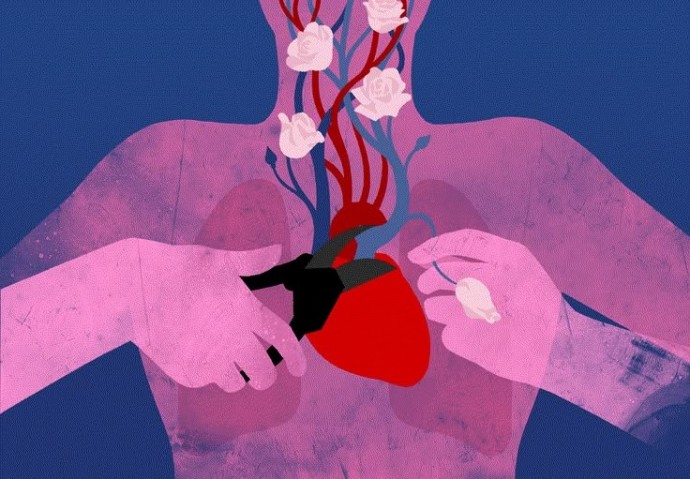

ПЕРИОД МОНАДЫ, И О ТОМ, КАК ВАЖНО БЫТЬ НАЕДИНЕ С СОБОЙ
Эта стадия важна, когда мы покидаем родительскую семью и начинаем жить самостоятельно. Этот этап необходим нам, чтобы мы научились жить вне партнерства, смогли побыть с собой, узнать себя в контексте самостоятельной жизни: когда наши решения целиком и полностью зависят от нас, когда на нас перестают довлеть правила и установки родительской семьи, и мы можем создавать свои собственные правила, когда мы остаемся один на один с трудностями, когда мы пробуем самостоятельно организовывать пространство и быт, заботиться о себе, когда мы учимся тому, как обеспечивать свою финансовую независимость.
Иногда этот период в развитии пропускается, когда выросший человек из родительской семьи сразу входит в новые отношения, вступает в брак, переезжает к партнеру, а порой и сразу сам становится родителем. Бывает и так, что человек может переходить из одних отношений в другие (разрывает предыдущие, только когда появляются новые), так и не попробовав встретиться с собой и узнать себя вне партнерства. Очень часто за избеганием стадии монады скрывается страх одиночества (это не то одиночество, когда я могу быть наедине с собой, а то, когда я не могу без другого) и страх не справиться самостоятельно со своей жизнью.
И когда этот период не пройден и нет опыта жизни вне партнерства, то может возникать очень много сложных чувства, вплоть до паники, если партнер нас покидает.
Но даже если мы находимся в партнерстве, то все равно важно и полезно организовывать пространство, где можно побыть наедине с собой, где есть только я и мои чувства и потребности, где есть только я и деятельность, которая меня наполняет, где могу заботится только о себе и прислушиваться только к себе, где я могу отделить свое от чужого и поразмышлять о своих планах, внутренних процессах, мечтах.
И конечно быть наедине с собой не равно быть в контакте с собой. Можно быть в одиночестве физически, но эмоционально и умственно сбегать в бесконечные дела, постоянное решение проблем, работу, заботу о других, в сериалы и пр., то есть не присутствовать в контакте с собой.
Если мысли о том, чтобы побыть с собой пугают, если оставшись в одиночестве вы испытываете беспокойство и желание себя чем-то занять, если мысли о том, чтобы остаться вне партнерства вызывают панику и/или тревогу, если постоянно в контакте нужен кто-то, то скорее всего в вашем опыте есть травма любви и проживание отвержения/пренебрежения/оставленности в раннем возрасте.