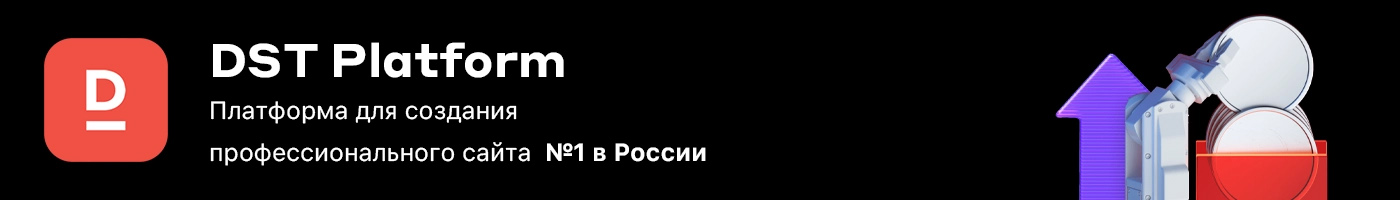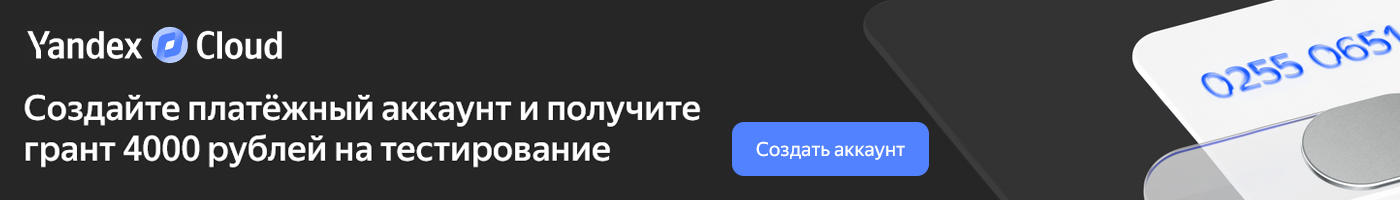Способ терапии
 Психология & Психотерапия
Психология & Психотерапия

Есть такой особый стиль терапии: пропитанный риторикой о том, что нужно быть взрослым, осознанным, видеть собственные игры и сценарные установки, не позволять гнусным демонам из бессознательного влиять на отношения с близкими, ну и вообще стремиться к личностной зрелости.
В этой риторике рисуется соблазнительная картина о том, как собственно выглядит жизнь этой «зрелой личности». Например, наполненной, богатой смыслами, событиями и впечатлениями, созиданием и страстью в любимом деле, подлинной близостью и бережностью в отношениях, сочетающейся с неугасающей яркостью чувств… Причем, терапевт, если он более звездат, может говорить о себе, как о ролевой модели подобной прекрасной жизни, так и, если он более вменяем, говорить о неком идеале, в который он верит, и к которому и сам стремится по мере своих ограниченных человеческих сил.
В последнем случае это может выглядеть очень искренне и по человечески, привлекать пласт экзистенциальных ценностей, и рисовать лестницу куда-то к совершенно головокружительным смыслам. И даже неважно, что эта лестница опирается на небо из абстрактных идеалов, само ее существование, сама возможность сделать несколько шагов по ней — уже могут казаться очень нужной и важной возможностью.
Проблема только в том, что у тех, кто рисует подобные манящие картины о том, как должно быть; зачастую есть и картины о том, как нельзя. О днище и душевной нищете. И так появляется оборотная сторона риторики о прекрасном — риторика, пропитанная ненавистью к патологии, разрушающей жизнь. Бесконечные статьи о том, как ужасна и разрушительна инфантильность и неосознанность, как смертоносен нарциссизм, как тяжело выживать с пограничными — это все, на мой взгляд, часть этой риторики ненависти к слабости и ограниченности возможностей.
Так формируется культура непримиримости к собственному страданию, к проблемам, к стыду и вине за них. Причем стыду и вине, которые культивируются как топливо для стремления выбраться из «болота зоны комфорта», к желанию измениться.
В своем крайнем варианте из этой риторики формируется особого рода БДСМ-вариант терапии. В нем есть клиенты, которые мазохистически пинают себя за собственные несовершенства, и в этом самогноблении находят особый кайф и гордость за свое стремление к лучшему, к изменению.
Боль, которую они могут переживать на терапии, сама по себе становится своего рода медалью, признаком «личностной зрелости». «Пусть у меня не все получается, но смотрите, как я рву жилы, как я стараюсь и страдаю в этом старании, уважайте меня за это!» Ну а на другом конце — терапевт, который обеспечивает достаточный уровень садизма и боли, чтобы удовлетворить эти ожидания. Естественно, с благими намерениями, ради того, чтобы клиент смог осознать, как ужасно и деструктивно то, что он делает с собственной жизнью, чтобы он получил шанс на изменение. И так могут рождаться, скажем, своеобразные директивно насаженные правила о том, что за опоздания на группу надо постоять на ногах, или что уход одного из участников должен привести к завершению всей группы.
Я в общем далека от того, чтобы сказать, будто несчастные люди, как жертвы попадают в сети особо злодейских садистов-терапевтов, хотя, конечно, бывают разные случаи, в том числе и совершенно одиозные. Я скорее о том, что есть определенного рода идеология, определенного рода словесные и ценностные конструкции, которые хорошо ложатся на наше культурное поле. И зачастую они легко могут закрутить вот такую садо-мазохистическую динамику, напитать ею поле терапевтического взаимодействия и выстроить коммуникацию в БДСМ-ключе.
Причем, кто-то из клиентов может себя комфортно чувствовать именно в таком и только в таком поле, кто-то может не мыслить терапии вне экстремальных переживаний и получать через это эмоциональный опыт, который субъективно воспринимается, как значимый и продвигающий.
Но вот что принципиально невозможно в такого рода «терапиях» — это разлепить спутанности между заботой и насилием, и выстроить границы собственного «я». А главное, нет ни малейшей возможности дать шанс на существование самой загнанной, лишенной слов, захороненной части личности, которая может проявлять себя только через симптом, через отыгрывание. Безмолвная, отсоединенная от живой боли, она воспринимается как враг и не вызывает сочувствия. И в очередной раз получает только порцию ненависти.