30 марта 2025
ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ДУШИ
«Все высшие качества — это проявление души, все низшие принадлежат материальной природе» — Олег Гадецкий
Древние трактаты утверждают, что лучшие качества души — ее естественные добродетели: чистота, нравственность, честность, правдивость, доброжелательность и любовь — присущи ей от природы. Душе также не свойственна греховность.
Грех появляется только тогда, когда душа находится в материальном теле. А все пороки: склонность к обману, вожделение, злоба, зависть, несправедливость и жестокость — полная противоположность изначальных качеств души.
Поскольку любая добродетель проявляется только через действие, лучшие качества души раскрываются через дела, которые максимально соответствуют ее изначальной природе.
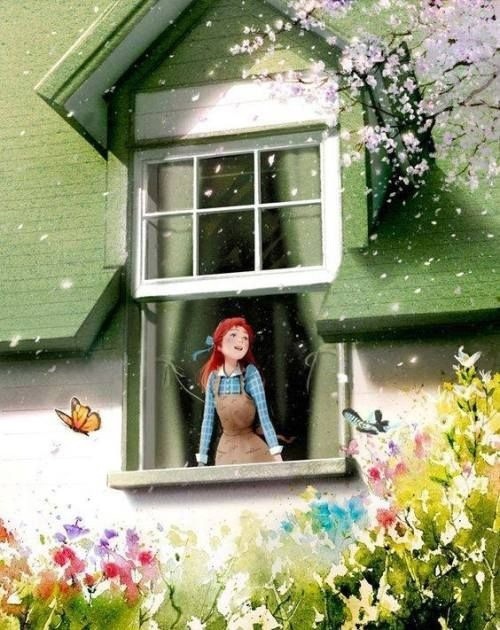

Жизнь обязательно будет
сводить тебя с такими людьми, которые созвучны струнам твоей души...
Даже если ты совсем одиночка по натуре, люди тебе эти нужны,
кто настолько: на месяц, год или насовсем. Они будут разные эти люди, и струны трогать разные...
Но ты всегда узнаешь их по особому отклику-звучанию в тебе.
Кто-то побудет рядом немного, просто для того, чтобы согреть, кто-то подскажет дорогу, которую ты потерял, а кто-то возьмёт крепко за руку и потянет прямо к звёздам...
Они все твоё отражение, и каждый из них чуть-чуть ты....


Хотя птицы и просыпаются с чувством голода, первое, что они делают, — это поют.
Доброе утро, Мир!🙏🏻


Дом, это когда:
Ты говоришь в домофон «Я» и тебе открывают.
Ты просыпаешься в 7, а ванна уже занята.
Рядом с тобой кто-то поет «О, Боже, пролился кофе!» на мотив «О, Боже, какой мужчина…»
Все были в магазине, но никто не купил молока.
Только что приготовленный блинчик моментально исчезает.
Макароны варятся в маленькой кастрюльке, потому что большая уже неделю под рисом, который никто не ест, а выбрасывать жалко.
По скрипу половиц ты точно знаешь, кто и куда пошел.
Если хочешь попить чаю, надо обойти все компьютеры, потому что все кружки периодически туда переезжают.
На холодильнике среди магнитиков — объявление «Котлеты есть только с гарниром».
По повороту ключа в замке они знают, в каком ты настроении.
Ночью на тебя кто-то складывает коленки.
Над полотенцами в ванной подписаны имена.
На балконе — заросли помидоров в самодельных баночках.
8 зарядок на 3 телефона и все не подходят.
Носки уходят в стирку парами, а возвращаются по одному.
Если что-то забыл на полу, мама подумала, что мусор и выкинула.
Папа починил кран, и теперь горячая вода опять бежит, правда исключительно в стену…
Тебя сначала кормят, и только потом спрашивают — как дела.
Люди с высшим образованием оголтело спорят из-за того, кто должен ходить красной фишкой.
Папа проиграл сыну в шахматы, и всем рассказывает, что просто дал ему фору.
Купили в комнату два больших дорогих кресла, но все равно все сидят, как раньше, на кухне.
Ложишься спать, а по потолку — бегут тени от проезжающих машин.
Утром сквозь сон не открывая глаз, точным привычным движением дергаешь шнур, и штора закрывает солнечный свет, и ты думаешь, — сегодня точно с вечера шторы закрою.
Даже если тебя сейчас ненавидят, все равно ждут, когда ты придешь.
Мам, а ты можешь мне из штанов сшить шорты? мне через 20 минут они на тренировку нужны…
На комоде семейные фотографии, вязаный Мымрик, фарфоровый слон и денежная жаба.
Ты больше нужен, чем свободен.
Ты чувствуешь, что ты хороший




