Вчера
собираю панк-рок группу
нужны:
бас-гитарист
2 гитариста
барабанщик
скрипач
возраст от 13 до 16 лет
пишите по номеру +7 (951) 911-09-20

Кризисы усиливают тревогу, но именно в этот момент команда особенно нуждается не в контроле, а в ориентире
В кризисные периоды многие руководители действуют по привычке: усиливают контроль, требуют больше отчётности, ускоряют процессы. В краткосрочной перспективе это может сработать, но редко создаёт устойчивость.
Джон Бальдони, входящий в топ-10 самых влиятельных экспертов по лидерству по версии Leadership Gurus International, в книге «Золотая книга лидера. 101 способ и техника управления в любой ситуации» подчёркивает:
влияние лидера строится не на давлении, а на его характере, осознанности и способности задавать направление.
Контроль может дисциплинировать, но смысл — в том ресурсе, который позволяет системе двигаться изнутри
Когда лидер реагирует на неопределённость усилением структуры, микроменеджментом или требовательностью, он отчасти снимает свою тревогу, но не помогает людям увидеть, куда и ради чего двигаться.
В книге приводятся примеры руководителей, которые вместо усиления контроля начали работать с уровнем видения, миссии и собственной устойчивости. И тогда команда начинала эффективно действовать не из долженствования, а потому что разделяла эти ориентиры.
Лидер, который действует через влияние, не отказывается от структуры — он опирается на неё, но не прячется в ней. Он способен удерживать полярность: видеть необходимость директивности и одновременно создавать пространство для участия других. В одном из примеров руководитель отказался от жёстких указаний в пользу вопросов: не «как сделать быстрее», а «какое решение приблизит нас к цели?». Такой переход требует внутренней работы — замечать, из чего сейчас действует лидер: из страха потерять контроль или из ясности движущего вектора.
И только тот, кто держит связь с этим внутренним направлением, способен вести не усилием, а присутствием. Такой лидер не толкает систему — он задаёт движение.
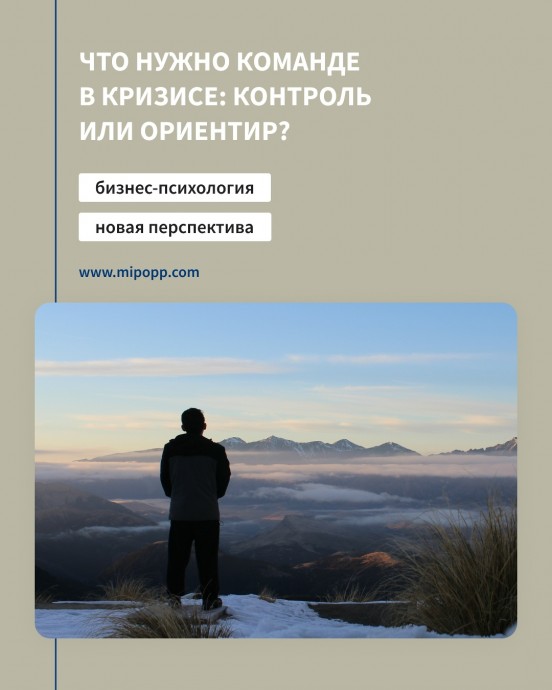

В одной задаче могут встретиться несколько историй о том, как «должно быть».
Когда в одной рабочей среде встречаются люди, выросшие в разные эпохи, они приносят с собой разные способы работать, учиться, принимать решения. Старшие поколения часто ценят стабильность, последовательность, уважение к иерархии. Младшие — скорость, гибкость, прямую обратную связь. Это не просто набор предпочтений — это разные «карты мира», сформированные определённым опытом. И из-за этого в командах порой может возникать напряжение.
Современные исследования различий между поколениями [например, Rudolph et al., Answers to 10 Questions About Generations and Generational Differences in the Workplace, Oxford Academic, 2020] показывают: попытки «перевоспитать» представителей других возрастных групп или навесить на них поколенческие стереотипы почти всегда усиливают оборонительное поведение и снижают эффективность рабочих процессов. Напротив, интерес к логике и привычкам другого поколения, признание его опыта и мотивов снижает конфликтность и открывает пространство для сотрудничества. Люди охотнее вступают в диалог, когда чувствуют, что их вклад не обесценивают.
Процесс-ориентированный подход Арнольда Минделла предлагает рассматривать напряженные взаимодействия как столкновения не самих людей, а их ролей. Конфликт появляется не потому, что кто-то неправ, а потому что какая-то роль пытается заявить о себе и получить место в командной динамике. Лидерство же понимается как способность выдерживать напряжение между полярными позициями и сохранять пространство, в котором каждая роль может быть услышана. Различия рассматриваются не как угроза, а как источник информации. Когда группа перестаёт бороться за «правильность» и начинает исследовать разные позиции, напряжение превращается в возможность диалога и роста.


Как выйти из сценария «уставший руководит уставшими»
«Уставший руководит уставшими» - это не метафора, а реальность, в которой сегодня живут многие компании. Руководитель, потерявший опору, пытается удерживать систему, где сотрудники так же истощены, как и он. В такой атмосфере легко скатиться в одну из крайностей: защищать только людей, забывая о задачах, или обслуживать только задачи, забывая о людях. Оба полюса понятны — и оба ведут к выгоранию всей системы.
Если присмотреться внимательнее, усталость перестаёт быть личной слабостью. Это следствие мира, где изменения ускоряются, профессии исчезают, неопределённость растёт, а люди боятся одновременно и потерять место, и меняться. Руководители пытаются работать старыми способами — но старые способы больше не дают результата.
Здесь и появляется необходимость новой точки опоры. Не в выборе между «эффективностью» и «состоянием», а в способности удерживать оба измерения. Именно эта способность становится тем качеством, которое отличает выживающие команды от рушащихся.
В этом месте «или» перестаёт работать. Необходима связка «и»: и система, и человек. И эффективность, и состояние. Важно, чтобы было пространство, где можно говорить не только о задачах, но и о цене, которую платят люди, выполняя эти задачи.
Роль психолога или коуча в такой системе — помочь увидеть целое: как тревога снижает производительность, как культура взаимодействия определяет вовлечённость, и как вовлечённость напрямую связана с результатом.
► Точка выхода из сценария «уставший руководит уставшими» появляется там, где появляется честность: у бизнеса — признавать, что состояние сотрудников влияет на результат, у психолога — понимать систему и её цели. В этой встрече рождается возможность двигаться иначе — не разрушая ни людей, ни процесс, а находя ту середину, в которой система остаётся живой.




