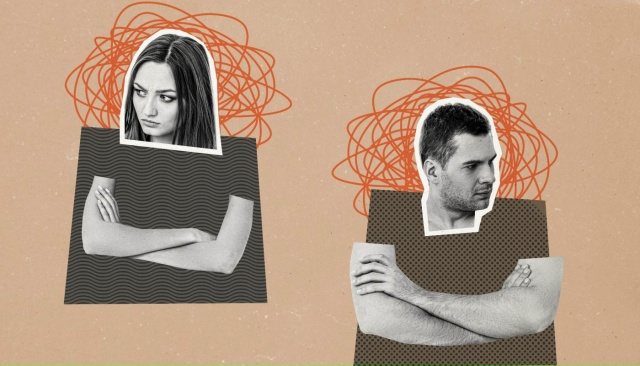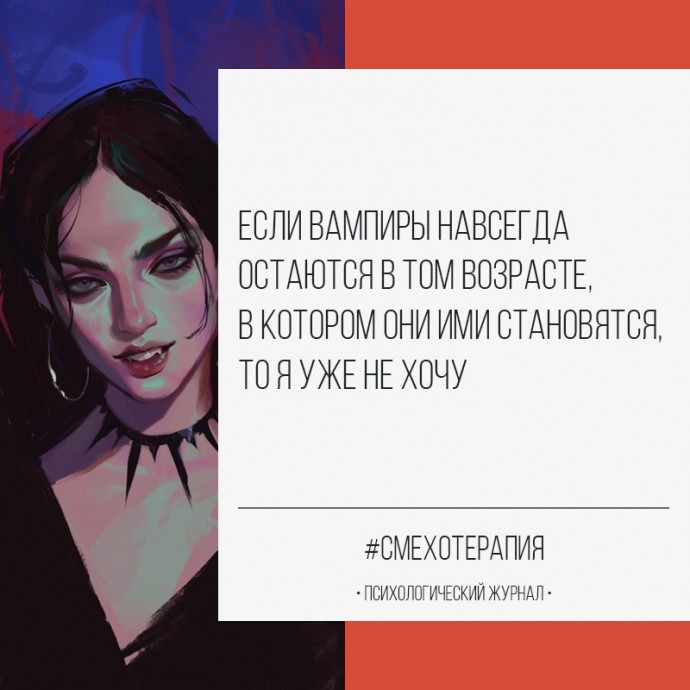25 января 2026
Можно сказать, что искусство жить сводится к разрешению одной только проблемы, а именно: как бы сбыть libido по возможности безопасным путем.
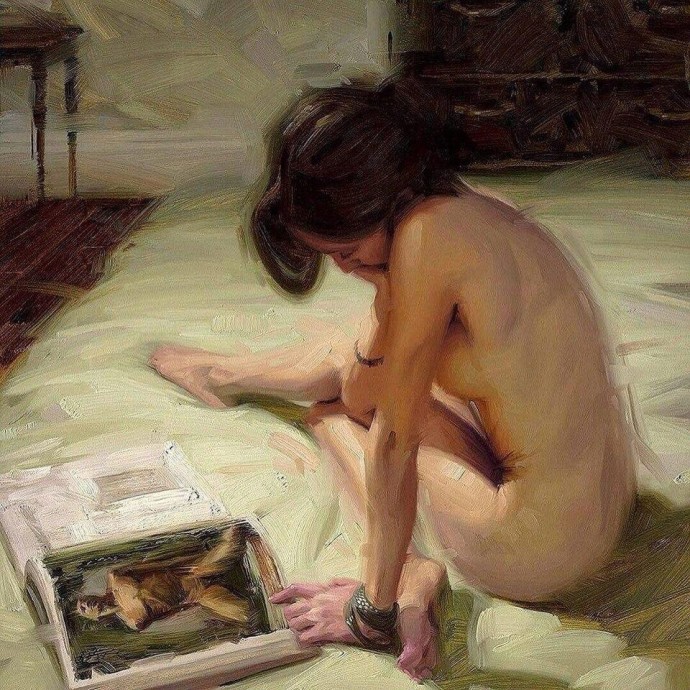

Детские травмы, которые мешают нам жить
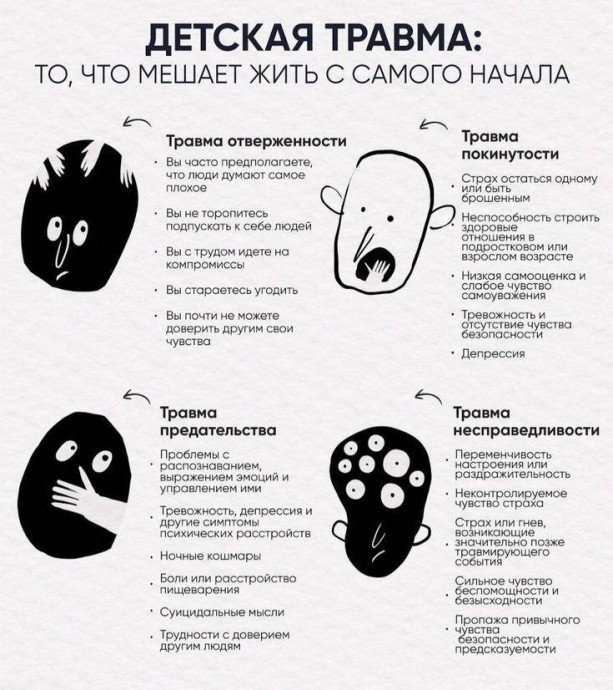

ЧЕК-ЛИСТ: ЭТО КРИЗИС ИЛИ ЗАВЕРШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ?
Когда в отношениях наступает тяжелая пора, встает тревожащий вопрос: мы боремся за будущее или пришли к завершению?
Понаблюдайте, что откликается чаще и глубже - не по количеству пунктов, а по общему ощущению.
Если это, скорее, КРИЗИС:
⬜ Мне больно и тяжело, потому что отношения всё ещё важны.
⬜ Есть злость, обиды, претензии - но не пустота.
⬜ Хочется, чтобы стало лучше, даже если не понятно как.
⬜ Я думаю «мы», даже когда злюсь.
⬜ Мы конфликтуем, но между нами есть контакт.
⬜ Мысль о расставании пугает или вызывает сильную тревогу.
⬜ Я всё ещё внутри этих отношений.
Если это, скорее, ЗАВЕРШЕНИЕ:
⬜ Я чувствую опустошение или эмоциональную тишину.
⬜ Разговоры не вызывают ни злости, ни желания прояснять, только усталость.
⬜ Партнёр становится психологически далёким, как будто уже в прошлом.
⬜ Я всё чаще представляю жизнь после этих отношений.
⬜ Мысль о расставании приносит облегчение.
⬜ Я уже не жду изменений.
⬜ Я как будто наблюдаю за отношениями со стороны.
Если отмечены пункты из обоих списков - это нормально.
Это может быть переходное состояние, а не окончательное решение.
Кризис - это когда больно, потому что отношения важны.
Есть много напряжения, это - энергия для того, чтобы поправить ситуацию.
Вы всё ещё внутри связи.
Завершение - это пепел тишины.
Где пусто и гулко. Уже нет сил и энергии.
Одиноко, но мысль о расставании приносит облегчение.
Обнадеживает то, что не каждый кризис - это конец.
И не все отношения нужно спасать.