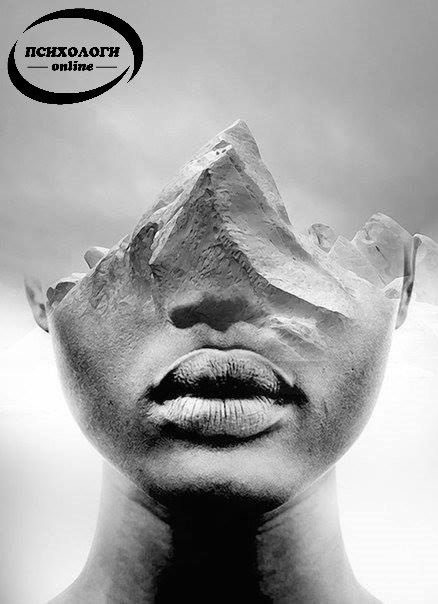14 ноября 2025
📌 Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции: «Пограничные состояния и состояния потенциальной опасности у условно здоровых людей: междисциплинарный диалог в свете рубрик Z55-Z65 МКБ-10»
📆 Время и место проведения мероприятия: 19 ноября 2025г. с 17:00 до 20:40 в форме видеоконференции на платформе Zoom.
Начало регистрации участников Конференции в 16.45
🌟 Это мероприятие специально создано для профессионалов, которые на передовой сталкиваются с последствиями социальных и психологических проблем у своих пациентов: психологов, психиатров, психотерапевтов, врачей смежных специальностей и социальных работников.
💡 Почему эта конференция важна именно для вас — практиков?
В своей ежедневной работе мы все чаще видим клиентов и пациентов, чьи страдания коренятся не в классических психиатрических диагнозах, а в жизненных обстоятельствах: безработице, бедности, проблемах с образованием, социальной изоляции, семейных конфликтах. Эти состояния, отраженные в МКБ-10 в рубриках Z55-Z65 («Лица, потенциально подверженные риску в отношении своего здоровья»), являются «серой зоной» между нормой и патологией. Они не всегда требуют медикаментозного лечения, но значительно снижают качество жизни и могут привести к серьезным последствиям.
Наша цель — дать вам не просто теорию, а конкретные инструменты для диагностики, понимания и помощи таким людям. Мы выстроили программу последовательно — от понимания проблемы до конкретных методов работы и обучения.
✔ Практическая ценность конференции:
1. Вы получите четкое клиническое понимание феноменапограничных состояний: как выглядят эти состояния, какие механизмы лежат в их основе, и как отличить их от психических расстройств.
2. Углубление в патопсихологическую диагностику. Вы узнаете, какие именно методы и методики (тесты, опросники, стратегии беседы) наиболее эффективны для выявления глубинных нарушений эмоциональной и познавательной сферы у этой категории лиц.
3. Вы узнаете, какие методы клинической психотерапии наиболее эффективны, как выстраивать терапевтические отношения и помогать клиенту находить внутренние ресурсы для преодоления кризиса.
4. Вы получите практические стратегии для вовлечения семьи в процесс терапии, работы с созависимостью и улучшения коммуникации для преодоления внешнего стресса.
5. Мы обсудим, какие компетенции нужны современному специалисту для работы с этой сложной группой, и какие образовательные программы и супервизии могут помочь вам и вашим коллегам постоянно повышать свою квалификацию.
🔹 Участие в этой конференции — это вклад в ваш профессиональный арсенал, который позволит вам оказывать более эффективную и адресную помощь в самых сложных и неочевидных случаях.
Ждем вас для плодотворного диалога!


📢 Приглашаем вас на Балинтовскую группу!
📆 Дата проведения: 25 ноября 2025 года
🔎 Балинтовская группа – это одна из наиболее популярных и эффективных форм работы в психологии. В основе такой группы лежит методика, разработанная венгерским психоаналитиком Майхай Балинтом в середине XX века. В настоящее время балинтовские группы широко применяются в различных областях психологии и психотерапии, направленных на интерактивную работу с участниками.
📍 В Институте Карвасаргского проводятся балинтовские группы, ориентированные на разные целевые аудитории. Балинтовская группа для психологов предназначена для профессионального развития психологов, позволяющая им через собственный опыт понять принципы работы с клиентами в психотерапевтическом процессе. Такая группа способствует развитию навыков эмпатии, пониманию психологических механизмов взаимодействия с клиентом и обретению уверенности в своих профессиональных возможностях. Цель проведения балинтовской группы для психологов – улучшить качество психотерапевтической работы и повысить эффективность психологической помощи.
💡 Балинтовские группы в Институте Карвасаргского имеют целью улучшить профессиональные навыки и эффективность работы психологов, педагогов и психотерапевтов. Они предоставляют участникам возможность получить опыт, обсудить трудности и научиться эффективно взаимодействовать с клиентами или учащимися. Безусловно, результатами работы в балинтовской группе не являются конечные решения или готовые рецепты, но эта форма работы дает участникам широкий спектр навыков и инструментов, которые можно применять в их профессиональной практике.
#Анонс
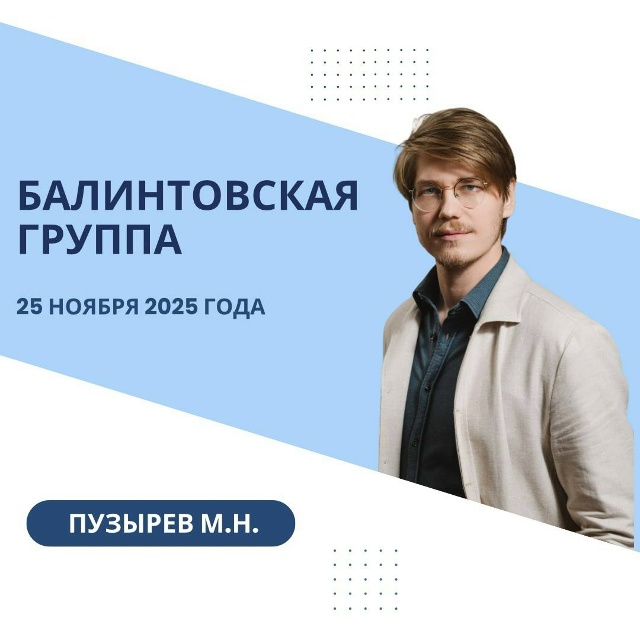

Зашла тут давеча в тредс (поразительное место, никак не привыкну) и поразилась, как много там постов на тему красных флагов в отношениях: типа «беги от него, если он…» или «беги от неё, если она…»
Предполагаемых красных флагов миллион: если слишком много подписчиков в инсте, если нет инсты, если есть дети от предыдущего брака, если она хочет поужинать на первом свидании, если он не готов оплатить ей такси до места встречи, если его/её родители в разводе – всего не перечислишь.
Судя по тому, как много этих роликов, у них большая аудитория. Этой аудитории, с одной стороны, интересны отношения, а с другой – она их вообще-то боится, причем до такой степени, что рассматривает потенциального партнера под лупой, выискивая доказательства того, что связываться с ним не стоит.
Так бывает, например, когда у людей мало ресурса на отношения: мало ресурса, чтобы принять риски, которые с ними связаны, и чтобы пережить расстройства, которые в любых отношениях рано или поздно случаются.
Ещё подумалось: скорее всего, большой отклик ролики и статьи про красные флаги находят не у тех, кто склонен доверять слишком быстро (и кого эти ролики, предполагается, должны уберечь), а у тех, кто и так подозрителен от природы.
Для них материалы о красных флагах подтверждают и укрепляют их картину мира - так работает психологическая защита под названием рационализация. Но если позволить этому процессу идти бесконтрольно, то красные флаги начнут мерещиться везде и перекроют всякую возможность контакта.
***
И в продолжение темы красных флагов и возможных рисков: в каком-то смысле отношения – это всегда риск.
Риск, что тебе сделают больно, отвергнут, используют.
Риск, что не оправдаются твои представления о партнере.
Об отношениях.
И, что порой намного неприятнее - о себе самом.
Фрустрация по этому поводу так высока, что лучше подойти к вопросу во всеоружии и на дальних подступах отстреливать неподходящих кандидатов. Или разрывать отношения сразу же, как только завершается романтическая фаза, где ты и партнер отражаетесь в глазах друг друга исключительно комплементарным образом.
Без риска глубоких отношений нет.
Я на этот счет вспоминаю восточную поговорку: «Птица садится на ветку не потому, что верит в прочность ветки, а потому, что она верит в прочность своих крыльев».
Люди, которые способны на риск открываться новым партнерам - часто вовсе не те люди, которые совершенствуют свои навыки отслеживания тревожных сигналов извне, навыки тестирования прочности «веток».
Это те, кто умеет себя слышать, доверять себе и своей способности о себе позаботиться, если что-то пойдет не так. То есть те, кто верит в силу своих крыльев.


Есть такие женщины, холодные и неприступные, как горы.
Они знают цену себе и каждому, кого встретят. Они идеально образованы и разбираются, кажется, во всём. Они красивы и улыбаются снисходительно, но очаровательно. Они знают, что всегда можно сделать больше, лучше, что нет предела совершенства. Их доверие нужно заслужить и служба эта будет долгой. Их сердца закрыты на железные замки и ключи они крепко сжимают в кулаке: хочешь – возьми, но сначала разожми мою ладонь.
У них есть принципы. Они никогда не допустят ничего такого, что покажется им унизительным. А горы величественны и горды, почти всё – ниже их [достоинства].
Они безусловно манящие, но не каждый осмелится покорять эти вершины. Но каждый им и не интересен. Они ждут кого-то особенного, того, с кем их снега смогут расстаять. Того, кто разожмёт ладонь, перед чьей силой невозможно будет устоять.
⠀
И однажды этот герой приходит. Он решается подниматься наверх. Он тратит огромные суммы на снаряжение. Он тренируется каждый день без остановок. Он решителен и смел. У него достаточно ловкости, выдержки и терпения. Он покоряет эту гору шаг за шагом. Он выдерживает шквалы принципов, холода и условий. Он держит холодную зажатую ладонь очень бережно и долго, до тех пор, пока напряжённые пальцы не разомкнутся и ключи от сердца не упадут на землю.
⠀
Когда-то, 10, 20 или 40 лет назад, этим женщинам пришлось оставить в запертой комнате маленькую девочку. Девочку, которой хотелось на ручки и новых кукол, и чтобы ей читали сказки и гладили по волосам. Девочку, которой страшно засыпать одной. Девочку, которая придумывает всякие глупости, говорит их вслух и звонко смеётся. Девочку, которая горько рыдает, когда что-то не получается, и зовёт на помощь старших. Долго зовёт, захлёбываясь слезами, а потом вдруг понимает, что никто не придёт. Никого нет в этом пустом доме. Взрослые, которые должны были читать сказки и гладить по волосам, оставили её здесь одну, ничего не объяснив. И теперь она должна как-то сама. Выжить. И больше никогда не говорить глупостей, не смеяться и не верить взрослым.
⠀
И глубоко в душе, эти женщины верят, что однажды придёт герой, разожмёт их ладонь, заберёт ключи и откроет железные замки на сердце. А в этом сердце – рубцами выгравирована карта дорог, путь к тому самому дому, к той самой комнате, к той самой девочке. Он последует за ней, он заберёт её, он возьмёт её на руки, он подарит ей куклы и расскажет сказку на ночь. И она снова сможет звонко смеяться и верить.
⠀
И герой приходит. Он покоряет гору. Она сдаётся под его напором. Она всей своей сущностью надеется, что это он.
Вот он добирается до самой вершины и снега тают, и в воздухе звон ключей, падающих на землю.
Но он устал. И замёрз. Он вымотан. Ему до безумия надоели ветры, снега, неприступность и километры сложного пути.
⠀
Он оставляет свой флаг на вершине и уходит. Туда где тепло. Туда, где верят и ждут. Туда, где легко, хорошо и звучит смех. Туда, где любовь сильнее страха.
⠀
И чёрные вороны кружат у подножья горы, протяжно воют ветра, и вершины покрываются снегом и льдом. Катятся камни и заваливают тропы и ущелья. Чтобы больше никто. Никогда.
⠀
А напуганная маленькая девочка всё ещё одна в пустом доме, в запертой тёмной комнате, обнимает плюшевого медведя и верит. Всё ещё верит.