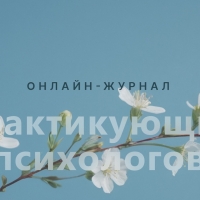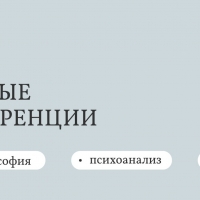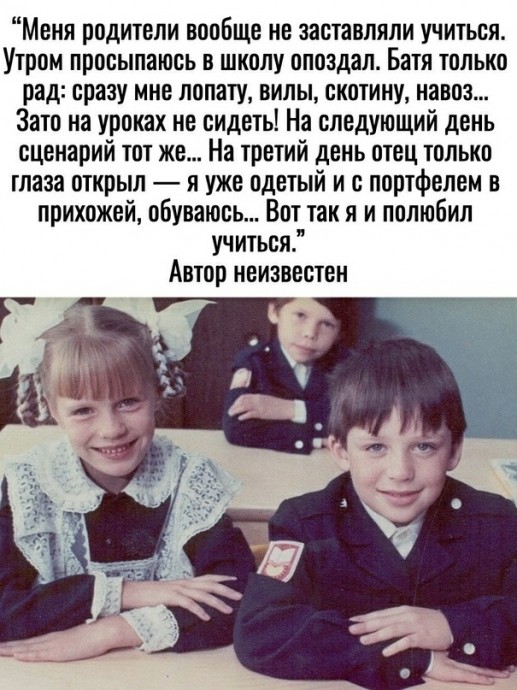Марина Андреева
27 октября 2025
Попросили рассказать, что такое "нарциссическая накачка". Это не то чтобы какой-то термин, просто образное выражение.
В широком смысле слова (не как клинический диагноз) нарциссизм - это зависимость от внешней оценки. Это вовсе не обязательно всегда состояние самолюбования или самовлюблености. Так же это чувство жгучего стыда, что ты "не такой как надо", страх "разоблачения", ярость в ответ на критику. То есть это состояние крайней уязвимости перед оценкой, когда ты сам не знаешь какой ты и рабски зависишь от своего отражения в глазах окружающих. Они тобой восхищаются - ты в эйфории. Критикуют - ты как в аду на сковородке.
Какая-то доля нарциссизма есть у любого человека, и это нормально - мы социальные существа и конечно зависим от мнения окружающих. Но в норме мы к этому не сводимся. Кто-то считает, что я ошибся, что я недостаточно хорош? Ну, ок обдумаем эту информацию. Нам это важно? Это правда? Мы это раньше знали? Тот, кто это говорит, какую цель преследует? И ещё какие-то вопросы в таком духе. На основании ответов на них мы выбираем, как регировать. Например, отмахнуться: да ну, чушь. Или посмеяться вместе с другими над своей глупой ошибкой. Или развести руками: ну, такой уж я. Или приложить усилия и стать лучше. Или сказать: ты говоришь это, чтобы меня обидеть или чтобы меня контролировать, номер не пройдет.
Человек с гипертрофированным нарциссическим началом не может себе позволить такой роскоши. Он раб этой лампы. Когда его не одобряют, в его картине мира его отменяют, уничтожают, отказывают в праве жить. Отсюда ярость, страх и готовность пойти на что угодно, чтобы не допустить критики в свой адрес.
Теперь вернёмся к детям.
Оставим в стороне пока грустную ситуацию, когда ребенок для родителей прежде всего "выставка достижений", их нарциссическое расширение. И все отношение к нему полностью обусловлено его успешностью: в учебе , спорте, или это может быть красивая внешность, "лидерские качества", незаурядность и пр. Сам по себе ребенок не нужен и не интересен, иногда с ним обращаются крайне жестоко. Такого детства никому не пожелаешь.
Но это, опять же, крайность.
В более обычной и частой ситуации взрослые используют оценку как суррогат внимания. Что бы ребенок ни сделал: молодец, умница. Важно: это не значит, что детей нельзя хвалить и называть "умница". Можно и нужно, особенно если сделано что-то, что сам ребенок ценит, знает, что было непросто, но он старался и смог. Тогда искренний восторг родителей - особая награда, если они правда понимают цену достижения.
Но сегодня многие дети слышат похвалу буквально каждую секунду. Убрал со стола - о, какой молодец! Хотя уместнее было бы простое "хорошо" или "спасибо". Если, опять же, это не трехлетка в первый раз в жизни полностью самостоятельно все сделал и сам ужасно горд.
Нарисовал за пять минут что-то - вау , круто, какой молодец! Все это дежурно, на автомате. Без всякого интереса к тому, что нарисовано, что ребенок чувствует. Суррогат.
Сейчас многие подумали: так вот как получаются нарциссы! Нет. Результат может быть очень разный.
Какой-то ребенок, привыкнув к постоянной похвале без причины, будет неприятно изумлён, что вне дома ему такое не обеспечено и быстро скажет "не буду ходить в эту школу".
Какой-то, наоборот, чувствуя формальность постоянных похвал, будет страдать от низкой самооценки - меня все время незаслуженно хвалят, видимо, в реальности я совсем плох.
Какой-то будет злиться, чувствуя подмену настоящего контакта или манипуляцию.
Какой-то попробует взять этот способ на вооружение и будет пытаться управлять сверстниками, а то и взрослыми, с помощью оценки - и огребет.
И ещё всякие могут быть варианты. Но спокойное отношение к себе в духе "я обычный человек со своими достоинствами и недостатками, я могу ошибаться, могу становиться лучше, могу кому-то нравиться, могу нет" будет даваться с трудом.
В общем, не надо слишком много всего вешать на гвоздь оценки. Это довольно острая приправа для особых случаев, а не здоровая еда на каждый день.


Конечно, защита наших границ это исключительно наш интерес. Но автор как-то совсем снимает ответственность с людей, которые эти самые границы начинают нарушать. Называет инфантильными людей, которые хотят, чтобы все были чуткими друг к другу, но люди, которые превратились в нелюдей во время перфоманса тогда кто? В детстве мы исследуем границы по максимуму, когда человек вырос у него уже должен сформироваться нравственный стержень, принципы. И когда этого не происходит, то беда. Зрелый человек остановится на границе своих принципов, даже если другой будет беззащитен. Есть такое хорошо известное золотое правило нравственности: относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Хорошо бы помнить об этом.
Показать полностью…

ЗАЩИТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ САМОГО ЧЕЛОВЕКА
Человек — существо социальное и нуждается в обществе других людей. Однако, помимо социальности, есть такая черта, как индивидуальность.
То есть, у каждого из нас есть свои интересы, ценности, потребности, которые иногда идут вразрез с интересами, ценностями и потребностями других людей. И за себя, за свои интересы человеку приходится бороться. Самому. Не перекладывая эту задачу на других.
Вот именно это я и хочу сказать: ЗАЩИТА СОБСТВЕННЫХ ГРАНИЦ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ САМОГО ЧЕЛОВЕКА.
Что происходит, когда человек сам не защищает собственные границы, отлично показано в одной истории. Нет, это был не психологический эксперимент (вроде всемирно известных экспериментов Зимбардо и Милгрэма), это был перформанс. Художница, создательница всемирно известных перформансов югославка Марина Абрамович в 1974 году организовала мероприятие под названием «Ритм 0».
В зале выставочного центра в Неаполе был поставлен стол, где лежали 72 предмета, как бытовые, так и опасные: перья, спички, нож, гвозди, цепи, ложка, вино, мед, сахар, мыло,кусок торта, соль, коробка с лезвиями, металлическая труба, скальпель, спирт и много чего ещё.
Художница разместила табличку: «Инструкции. На столе 72 объекта, которые вы можете использовать, как хотите. Перформанс Я — объект. В течение этого времени я беру на себя полную ответственность. Продолжительность: 6 часов (20:00 — 2:00)».
И зрители сперва робко, а потом всё смелее начали входить во взаимодействие с художницей, применяя предложенные предметы. Сперва люди целовали Марину, дарили ей цветы, но постепенно осмелели и стали заходить всё дальше. Присутствующий на перформансе искусствовед Томас МакЭвили писал: «Все началось невинно. Кто-то повернул ее, другой потянул за руку, кто-то дотронулся уже более интимно.
Страсти неаполитанской ночи начали накаляться. К третьему часу вся ее одежда была изрезана лезвиями, а к четвертому лезвия добрались и до ее кожи. Кто-то надрезал ее горло и пил кровь. С ней проделывали и другие вещи сексуального характера. Она была так вовлечена в процесс, что не возразила бы, захоти зрители изнасиловать или убить ее.
Столкнувшись с ее безволием, нашлись люди, которые встали на ее защиту. Когда один из мужчин приставил к виску Марины заряженный пистолет, положив на курок ее собственный палец,между зрителями разразилась драка». «Сначала зрители очень хотели со мной поиграть, — вспоминает Абрамович. — Потом они становились все более агрессивными, это были шесть часов настоящего ужаса. Они отрезали мне волосы, втыкали в тело шипы роз, резали кожу на шее, а потом наклеили пластырь на рану.
После шести часов перформанса я со слезами на глазах, голая пошла навстречу зрителям, отчего они в буквальном смысле выбежали из комнаты, так как поняли,что я „ожила“ — перестала быть их игрушкой и начала управлять своим телом. Я помню,что, придя в отель в этот вечер и посмотрев на себя в зеркало, я обнаружила у себя прядь седых волос».
Почему же люди делают такие вещи (с другими или с самими собой, или вот с Мариной Абрамович)? Неужели люди злы? Нет, не злы — но они любопытны. Мы — гоминиды, потомки человекообразных обезьян, и переняли от них любопытство и исследовательский дух. Поэтому в природе человека заложена склонность проверять границы до тех пор, пока их не нащупаешь.
А если границ нигде нет, то человек будет юзать ближнего своего до тех пор, пока совсем не смылит в ноль. И ещё важное: в перформансе Марины Абрамович одним из условий было озвучено: «Моё тело (на время перформанса) — объект». То есть, не обладает собственной волей, субъектностью, способностью говорить «нет» тому, что неприемлемо.
А с объектом субъекты не церемонятся. В конце концов, никто не извиняется перед стулом за то, что задел его ножку? Или перед чашкой, что уронил её (или даже разбил)? Вещи можно портить и ломать, а ответственность за их порчу если и наступит, то перед их хозяином (т.е., субъектом).
И когда вы позволяете проделывать с собой то, что неприемлемо, вы себя обращаете в объект, вещь, предмет для использования. И кого же винить за то, что с вещью обращаются так, как обращаются с неодушевлёнными предметами? Ключевой инструмент при выстраивании границ — это слово «нет». «Нет» говорится тому, что неприемлемо, что человек не будет делать, во что не станет вовлекаться. Или другая сторона той же медали — слово «да». «Да, я так хочу». «Да, я это сделаю». «На том стою и не могу иначе». «Здесь будет город заложен, отсель грозить мы будем шведу». «Это будет сделано». «Я сказал». Но просто говорить — только воздух сотрясать. Важно устоять на заявленных позициях, превратить слово в дело.
Своей субъектностью изменить объектный мир. Именно это и делает человека субъектом. Раз и навсегда установить границы — нереально.
Любой новый участник общения непременно будет искать, где границы проходят и проверять их на прочность. Поэтому-то границы не устанавливаются «снаружи», а могут быть удержаны только «изнутри», волей и решимостью человека. «Я — вот таков». «Вот это и это для меня важно». «Я сказал».
Так что ещё раз повторю: удерживать свои границы — ответственность самого человека. Никто за нас это не сделает.
Но чтобы их удержать, нужна внутренняя сила, прокачанная личность.
Мечта всех инфантилов — попасть в такое место, где границы будут удерживаться сами по себе, где никто меня не обидит, где будет само по себе становиться комфортно и безопасно. Но это неправильно и нездорово!
Биологи установили, что в слишком комфортной среде, где уничтожены все-все бактерии и вирусы, падает иммунитет человека. Там, где нет естественных врагов, слабнет биологический иммунитет, а там, где регулярно физическое тело испытывается на прочность (естественно, незапредельными нагрузками), иммунитет прокачивается и готов отразить серьёзную опасность, если она возникнет.
То же и с «психологическим иммунитетом» — в среде, где все чересчур деликатны, не соприкасаются и не воздействуют на других, личность становится слабой, изнеженной и неспособной постоять за себя.
И психологическая терминология — она о том, как человек обходится со своими границами и с поведением других. «Открытые границы» — о, заходи, я рад каждому встречному и уверен, что никто мне не сможет навредить, я достаточно силён.
«Закрытые границы» — «я напуган и подавлен, я слаб, мне кажется, что люди опасны, поэтому я никого к себе не подпущу (на всякий случай)». Я радуюсь, когда в процессе психотерапии клиент научается говорить мне «нет».
Это значит, что и его «да» теперь будет более весомым. Мне гораздо более безопасно, когда я знаю, что на согласие человека можно опереться, что оно искренне (а не трусливое и вялое, данное только из страха — что его бросят, накажут, обругают, лишат общения и т.п.)
Границы — это ведь очень удобная и прагматичная вещь для всех участников общения. Если человек умеет говорить «нет» и говорит его веско, защищая свою волю, это ведь действительно, всерьёз удобно для всех участников общения.
Да-да, и для того, кому сказали «нет» — тоже удобно и безопасно. В этом случае один не окажется поранен, а другой не станет насильником (принуждая партнёра по общению к тому, что для него неприемлемо). То есть, хорошие границы — это средство безопасности. Для всех участников общения. Чрезмерная покладистость провоцирует на худшее.
Если агрессор не встречает отпора, то продвигается вглубь территории всё дальше и дальше. А все мы, потомки человекообразных обезьян, ещё и очень агрессивны — это нормально и правильно (про агрессию я ещё напишу потом). Так что это два балансирующих инструмента общения: агрессия и границы. Если они оба проработаны, то общение и взаимодействие становятся эффективными и приносят участникам большое удовольствие.
Когда Марина Абрамович уходила с перформанса, люди старались не смотреть ей в глаза — им было стыдно за всё то, что они творили с ней. Они обходились с ней, как с объектом, а она была субъектом. Это стыдно, неправильно, некрасиво.
Это травмировало не только саму «жертву», но и «насильников» — тех, кто с ней такое творил. И Марина своей художественной работой показала, что защита границ человеческой личности — важный элемент в том, чтобы людьми могли оставаться все: и те, кого могут обидеть, и те, кто обижает.
Но главная, ключевая ответственность за защиту собственных границ по-прежнему лежит на самом человеке.